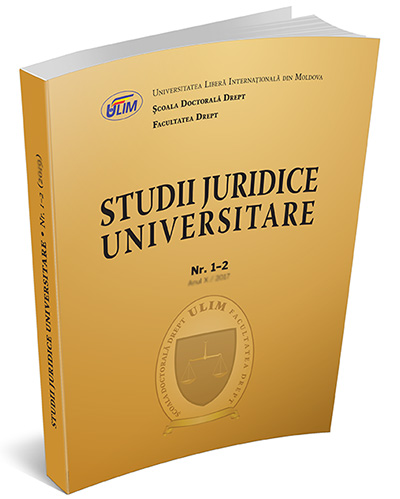Сергей Николаевич Величук, Соискатель кафедры Конституционного, муниципального и международного права Мариупольского государственного университета
|
|
В статье исследуются некоторые доктринальные подходы украинских и зарубежных ученых в контексте возможности признания за судебным правотворчеством и судебным прецедентом качества источника права, в частности, правовой системе Украины. Ключевые слова: судебное правотворчество, судебная практика, судебный прецедент, правоприменительная практика и др. |
|
|
|
The article is dedicated to certain doctrinal approaches of Ukrainian and foreign researchers in the context of possible recognition of jurisprudence and juridical precedent as sources of law, especially internal sources of Ukrainian law. Keywords: jurisprudence, judicial practice, judicial precedent, practice of application of law |
|
Постановка проблемы. Повышение роли и значения судебной ветви власти на современном этапе обуславливает рассмотрение многих, связанных с этим проблем, по–новому. Важнейшее значение приобретает вопрос об определении места и роли судебной практики, судебного правотворчества и судебного прецедента в целом в правовой системе Украины, и, в системе источников украинского права, в частности.
Как справедливо отмечается в отечественной юридической науке, судебная практика ныне — это, прежде всего, носитель объективной информации, который своевременно сигнализирует об эффективности принятых законодателем правовых норм и необходимости их дальнейшего усовершенствования и развития1.
Соответственно, особенную актуальность ныне представляют собой научные исследования возможностей судебной практики и судебного прецедента выступать источником права в рамках правовой системы Украины, что обусловлено многими факторами.
Как известно, во времена господствования нормативистского подхода в юридической науке, когда вся юриспруденция исходила с понимания права как совокупности законов и системы норм, отрицались какие–либо проявления правотворчества в судебной деятельности. Вследствие этого подавляющее количество работ известных советских ученых, за исключением немногих, содержали существенную идеологическую нагрузку и критику «буржуазных» теорий, которые признавали за судебной практикой ее стабильное место в системе источников права2.
Однако ныне изменилось, прежде всего, само правопонимание, поскольку на смену нормативизму пришло разнообразие правовых школ и концепций; пришло понимание того, что верховенство права и принцип законности не тождественные понятия; ощущается влияние процессов конвергенции, которые присущи правовым системам современности. Кроме того, существует явная потребность в проведении основательной судебно–правовой реформы в Украине.
В современных условиях судебная власть, особенно на уровне высших судебных инстанций, призывается к тому, чтобы содействовать законодательным органам, как в корректировке законов, так и в восполнении пробелов в законодательном регулировании. То обстоятельство, что судебная власть восполняет дело законодателя, ныне представляется «вполне нормальной и легитимной формой деятельности, имеющей вспомогательный или субсидиарный характер по отношению к усилиям законодателя»3.
Целью статьи является осуществление теоретического анализа доктринальных подходов украинских и зарубежных ученых относительно понятия и содержания судебной практики, судебного правотворчества и судебного прецедента, а также форм их проявления и возможностей применения, в частности, в правовой системе Украины.
Теоретическая основа. Современный теоретический анализ судебной практики, судебного прецедента и возможностей их применения в условиях постсоветских стран исследовались такими ведущими учеными, как: И. Богдановской, Б. Малышевым, М. Марченко, С. Шевчуком и др. Отдельные аспекты проблемы становлении и функционировании судебного прецедента как источника права в правовой среде романо–германской правовой семье и семье общего права находим в трудах таких компаративистов, как: Г.Бермана, В. Бернхема, Р.Давида, К. Жоффре–Спинозы, О. Зайчука, А. Копыленко, Р. Кросса, Х. Кьотца, М. Марченко, Н. Онищенко, Н. Пархоменко, Р. Уолкера, К. Цвайгерта, Е. Чернецкой, В. Шишкина и других.
Один из вопросов, который исследуется школами правового позитивизма и естественного права, — это отношение к деятельности судей в процессе правоприменения, то есть анализ их правотворческой функции. Как известно, правовой позитивизм полностью отрицает их правотворческую роль в процессе принятия судебных решений. Это обусловлено тем, что подобна деятельность противоречит воле суверена, которая воплощается в текстах нормативно–правовых актов и заставляет судей их применять, не размышляя об их ценности и значении.
Теория естественного права, наоборот, убеждает в том, что судьи «открывают» право, которое всегда существовало в обществе как надпозитивное. Таким образом, в судебных решениях судья всегда должен обеспечить баланс: согласовывать писаное право с потребностями общества, поскольку, изменения без стабильности, как справедливо пишет профессор Л.Д.Тимченко, приводит к анархии, а стабильность без изменений — к регрессу4.
На европейском континенте имеет место тенденция к постепенному ослаблению веры в приоритет закона, пониманию ошибочности мнений, что принятие решений — лишь техническая и автоматическая операции. Наоборот, в законе все более видят только выражение общих принципов, которые предоставляют огромное пространство для толкования, вследствие чего постоянная судебная практика стает самостоятельным источником права в форме судебных решений5. К примеру, К.Цвайгерт и Х.Кьотц по этому поводу отмечают следующее: «Гражданские и торговые кодексы стран континентальной Европы, устаревая, теряют способность быть адекватными изменяющейся действительности, и законодатель не успевает при помощи конкретных норм регулировать постоянно возникающие жизненные проблемы. Поэтому судебной практике необходимо активнее заполнять пробелы. Закон же утрачивает доминирующие позиции общего регулирования и превращается, по мнению Рабеля, на простое орудие всеобщего убеждении»6.
Анализируя место правотолковательной деятельности суда в правотворчестве и правоприменительном процессе, необходимо исследовать существующие в юридической науке подходы к пониманию судебного правотворчества. Отметим, что в разные исторические периоды российские и украинские ученые освещали различные позиции относительно правотворческой функции суда.
Так, дореволюционный исследователь Г.Демченко еще в начале ХХ века считал, то суд никогда не может заполнять пробелы в законе, а творческий элемент вообще исключается из судебной деятельности7. В советской юриспруденции также рассматривался вопрос судебного правотворчества, которое отождествлялось в то время преимущественно с судебным прецедентом.
Необходимо отметить, что признание или отрицание за судом правотворческой функции непосредственно обусловлено научными подходами к понятию и содержанию «правосудия». Если в советский период правосудие отождествлялось с судопроизводством, судебным рассмотрением дел, то есть внимание акцентировалось на внешних характеристиках, то в постсоветский период акцент сместился на способ разрешении спора о праве, который осуществляется на основе закона, принципов справедливости, равности, свободы и гуманизма8.
Постепенная трансформация взглядов на правосудие обусловила изменение в доктринальных подходах ученых относительно вопроса судебного правотворчества и судебной практики. Однако даже в постсоветский период значительная часть ученых оставалась на позициях отрицания судебного прецедента в качестве источника права. Среди них Г. Манов, который выступал против концепции судейского правотворчества, убежденный в том, что законодатель имеет более широкое мировоззрение, поэтому может в процессе принятия решения учитывать намного большее количество различных факторов9.
Распространена также доктринальная позиция, согласно которой «для признания за судебной властью… правотворческих функций нет теоретико–правовых оснований», и что судебная власть имеет лишь „правотолковательные и правоприменительные функции“»10. К примеру, В. Нерсесянц считает, что судебная практика во всех ее проявлениях является не правотворческой, а лишь правоприменительной (и соответственно правотолковательной деятельностью)11.
Официальное непризнание правотворческих функций судебной власти как одного из проявлений ее публично–правового характера, по мнению М.Марченко, все в большей мере компенсируется их возрастающим неофициальным признанием, а точнее — академическим признанием. Поскольку за последние года существенно возросло количество научных работ, в которых не только уже «никто не высказывает сомнении в наличии у суда государственно–властных полномочий или в современных условиях — публично–властных»12, но и отстаивает «правотворческие позиции суда»13.
В связи с этим, достаточно прогрессивным следует считать мнение С. Шевчука, который считает, что «явление судебного правотворчества существовало всегда в странах, где существует независимая судебная власть и действует принцип верховенства права»14.
Интересным также является мнение по этому вопросу А.Б. Венгерова, который указывал на то, что судебная практика может быть регулятором общественных отношений, «способствует преодолению противоречий при взаимодействии норм права и общественных отношений, служит «материалом» и критерием правообразовательной деятельности». Однако А.Б. Венгеров не ставит судебную практику в один ряд с актами нормотворчества: «конкретизация правовой нормы в процессе ее неоднократного применения в судебной деятельности не является нормотворчеством, что это совершенно особый процесс реализации и развития права, существующий в действительности»15.
Заслуживает внимания и работа В.В. Лазарева «Общая теория государства и права»16. Ученый долгое время занимался исследованием пробелов в праве и в рамках этого исследования он затрагивал и понимание «судебной практики» в советской доктрине. Так, В.В. Лазарев разграничивал понятие «судебный прецедент», говоря об источниках семьи общего права, и понятие «судебная практика», подразумевая правоприменительную деятельность судей. Он выделял три точки зрения советских ученых относительно понимания судебной практики. Первая из них сводится к признанию судебной практики самостоятельным источником права. Представители второй точки зрения утверждают, что судебная практика охватывает только правоприменительную деятельность судей. Правотворчество органов юстиции в советском государстве даже на практике отсутствует. Сторонники третьего подхода считают, что судебная практика включает в себя творческий элемент, но официально источником права не признается.
Выводы и рекомендации. Несмотря на свое значение, доктрина судебного прецедента пока еще не получила однозначного понимания и утверждения в украинской правовой науке и практике. Прецедент отрицался на протяжении многих лет в советской теории права, хотя были попытки теоретически обосновать создание и применение судебной практики высшими судебными органами. Конституция Украины 1996 г. законодательно закрепила разделение государственной власти на законодательную, исполнительную и судебную. Разработана Концепция судебно–правовой реформы в Украине (1992 г.), которая, позволит утвердиться судебной власти в государственном механизме в качестве самостоятельной влиятельной силы, не зависящей в своей деятельности от власти законодательной и исполнительной. Эти изменения позволили по–новому взглянуть на роль суда в выработке и создании прецедентов.
В связи с этим, мнение С.С. Алексеева о новой функции высших органов судебной власти в современных условиях является, как нам представляется, актуальным: «…Настала пора вообще изменить наше видение правосудия, интерпретацию его назначения как одного лишь «применения права». Опыт развитых демократических стран, причем не только англо–американской группы, свидетельствует, что высокий уровень правового развития достигается в обществе тогда, когда суд опирается на конституцию, закон, на общепризнанные права человека и творит право. Поэтому придание решениям высших судебных инстанций страны функций судебного прецедента представляется делом назревшим, вполне оправданным»17. Думается, то вышеизложенное в полной мере можно отнести и к украинской правовой действительности.
1 Хорошковська Д.Ю. Роль судової практики в системі джерел права України: теоретико–правове дослідження. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.01 — теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень. — Інститут законодавства Верховної Ради України, Київ, 2006. — С. 4.
2 Хорошковська Д.Ю. Роль судової практики в системі джерел права України: теоретико–правове дослідження. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.01 — теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень. — Інститут законодавства Верховної Ради України, Київ, 2006. — С. 4.
3 Бошно С.В. Судебная практика: способы выражения // Государство и право. — 2003. — № 3. — С. 19.
4 Тимченко Л. Д., Кононенко В. П. Забезпечення Європейським судом з прав людини дії норм Конвенції 1950 р. //Правове забезпечення ефективного виконання рішень і застосування практики Європейського суду з прав людини : Матер. 2– ї міжнар. наук.практ. конф. (Одеса, 20–21 вересня 2013 р.) / За ред. д.ю.н., проф., академіка С.В. Ківалова ; Націон. унт «Одеська юридична академія». — Одеса : Фенікс, 2013. — 492 с.
5 Там же.
6 Цвайгерт К. Введение в сравнительное правоведение в сфере частного права: В 2–х т. — Т. I: Основы: Пер. с нем. / Цвайгерт К., Кётц Х. — М.: Между нар. отношения, 2000. — 480 с. — С. 403
7 Демченко Г.В. Судебный прецедент // Журнал Министерства юстиции. — 1903. — № 3. — С. 99
8 Малишев, Борис Володимирович. Судовий прецедент у правовій системі Англії [Текст] / Б.В. Малишев. — К.: Праксіс, 2008. — 344 c., С. 25, 26.
9 Манов Г.Н. Теория права и государства. — М., 1995. — С. 226.
10 Кладий Е.В. Судебная власть в системе государственной власти Российской Федерации. Автореф. дисс. … канд.. юрид. наук. — М., 2002. — С. 10.
11 Нерсесянц В.С. Суд не законодательствует и не управляет, а применяет право (О правоприменительной природе судебных актов) // Судебная практика как источник права. — С. 34–41, С. 34.
12 Дмитриев Ю.А., Черемных Г.Г. Судебная власть в механизме разделения властей и защите прав и свобод человека // Государство и право. — 1997. — № 8. — С. 47.
13 Марченко М.Н. Судебное правотворчество и судейское право. — М.: ТК Велби, Изд–во Проспект, 2007. — 512 с., С. 19.
14 Шевчук С. Судова правотворчість: світовий досвід і перспективи в Україні [Текст] / С. Шевчук. — К.: Реферат, 2010. — 640 с., С. 5.
15 Венгеров, А.Б. Роль судебной практики в развитии советского права: Автореф. Дис….канд. юрид. наук. — М., 1966. — С. 5.
16 Общая теория права и государства: Учебник / Под ред. В.В. Лазарева. 2–е изд., перераб.и доп. — М.: Юристъ, 1996. — С. 409.
17 Алексеев, С.С. Теория права. — М., 1994. — С. 219.